Некоторые аспекты символизма в архитектуре московского модерна
Опубликовано: Символизм и модерн – феномены европейской культуры / Отв. ред. И.Е.Светлов. М., 2008. С. 312 – 325.
[xxii] Панно выполнялись в мастерских Строгановского училища по эскизам Ф. Ф. Федоровского.
Эпоха символизма, наступление которой на Западе связывают с публикацией Ж. Мореасом знаменитого манифеста 1886 года, в России началась почти с десятилетним опозданием. Оставив в стороне дискуссионный вопрос о самобытном происхождении русского символизма (художественная практика 1880-х годов действительно даёт для этой гипотезы некоторые основания, значение которых, однако, едва ли стоит переоценивать), будет разумным вести отсчёт истории русского символизма с момента его самосознания: времени возникновения самого термина «русский символизм», который вошёл в обиход с лёгкой руки В.Я. Брюсова в середине 1890-х годов[i].
Отнюдь не праздным представляется вопрос о том, насколько правомерно проецировать ситуацию, сложившуюся в русской литературе конца века на сферу пластических искусств? Первый период русского символизма традиционно связывают с деятельностью объединения «Мир искусства», образованного в конце 1890-х годов. К этому же времени относится начало символистского периода творчества В.Э. Борисова-Мусатова, возвратившегося в 1898 году из Парижа под сильным впечатлением от французской живописи. Десятилетием ранее явился М.А. Врубель, мировидение которого балансировало на тонкой грани между романтизмом и символизмом. Но дар М. Врубеля, обладая истинно гениальным масштабом, по-прежнему рождает больше вопросов, чем ответов, выводя творчество художника за пределы современных ему школ и направлений. Однако, на какое бы одиночество не обрекал гений своего избранника по определению, слияние внутреннего начала образов М. Врубеля с духом эпохи, так же как и влияние его личности на художников второй волны символизма (круга «Голубой розы») очень велики. Таким образом, рубеж, обозначивший пришествие символизма в Россию, проходит почти на стыке столетий. В эти же годы в России (в частности - Москве) появляются первые постройки, которые можно идентифицировать как произведения стиля модерн. Анализ художественного материала подсказывает вывод о том, что появление символизма в русском искусстве было синхронно началу бытования модерна.
Вопросы взаимного притяжения и отталкивания, совпадения и размежевания символизма и модерна принадлежат ныне к числу горячо дискутируемых (что отчасти подтверждается фактом публикации данного сборника). Отражение в архитектурно-художественной практике русского модерна «мира идей» своего времени представляет собой любопытнейшую проблему истории искусства, специальное рассмотрение которой началось не так давно. По мере выхода за рамки сугубо формального анализа архитектуры модерна (при котором констатировалось пристрастие стиля к повышенной декоративности), внимание исследователей обратилось к изучению конкретных иконографических мотивов декора архитектуры конца XIX – начала XX века, источником которых выступала символистская литература. Более того, в научных публикациях последних лет понятие символизма – интернационального художественно-эстетического направления, охватившего на рубеже веков практически все сферы художественной культуры большинства стран Европы, России и США – с очевидностью начинает превалировать над принятой прежде стилевой категорией модерна. Так, по мнению М. В. Нащокиной, «архитектура теперь всё чаще рассматривается в более широких, фактически внестилевых рамках эпохи символизма, её духовных и формальных исканий, её эстетических и этических предпочтений»[ii]. Стилистическая мозаичность русской архитектуры конца XIX – начала XX века даёт дополнительные аргументы в пользу отказа от жёстких определений: критерии «чистоты» стиля (в частности, модерна) при исследовании отечественного материала не вполне ясны. «Северный модерн» нередко смыкается здесь с неорусским стилем, а «романтический модерн», навеянный опытом архитекторов Венского Сецессиона, содержит в себе истоки неоклассицизма 1910-х годов.
Говоря о символизме в архитектуре, мы имеем в виду в первую очередь символистские мотивы фасадного декора. Собственно архитектурная форма оказалась более консервативной, испытывая на себе инерцию композиционных приёмов и схем, сложившихся в период эклектики. Зато декор архитектуры, его место и роль в сложении художественного образа постройки изменились кардинально. Вполне очевидно нарастание изобразительности в убранстве фасадов как Москвы, так и Санкт-Петербурга. На смену богатой орнаментации, заполнявшей практически всё поле фасада, пришла продуманная локализация живописных и пластических акцентов, способствующая бóльшей выразительности архитектурной композиции. Из этого следует, что, по сравнению с эклектикой, декоративная форма в архитектуре модерна не только не перестала быть повествовательной, но, возможно, приобрела даже бóльшую нарративность, освободившись от необходимости копировать образцы прошлого. Как отмечала Е. И. Кириченко в своей фундаментальной работе, «из носителя определенных понятий, часто очень конкретных (насколько исторически и социально конкретным был идеал архитектуры историзма, – И.Е.), архитектурная форма модерна вновь, как и в средние века, становится воплощением, знаком понятий широкого философского плана»[iii]. Естественно, по сравнению со Средневековьем, в конце XIX – начале XX века архитектура отличалась бóльшим типологическим разнообразием, равно как и диапазон духовных смыслов, воплощаемых в искусстве, не ограничивался христианской догматикой. На 1890 – 1910-е годы в России пришёлся подлинный бум храмового строительства. Зодчие стремились к использованию в культовой архитектуре новых композиционных приёмов и форм, «в которых бы выражалась так искренне и так красиво, как в старину, идея места общения людей с Богом»[iv]. Однако в формах и особенно в декоре гражданских зданий находили выражение иные идеи, связанные, главным образом, с романтическим пониманием высокого призвания художника, апологией творчества в широком смысле этого понятия. При этом иконография живописного и пластического декора архитектуры обнаруживала несомненную связь с миром символизма.
Центральным памятником московского архитектурного модерна является отель «Метрополь», проектирование, возведение и отделка которого заняли практически весь период бытования «нового стиля» в русском зодчестве. Начало истории «Метрополя» приходится на конец 1890-х годов, когда в Москве появляются первые стилизации декоративных приёмов франко-бельгийского Ар-Нуво. Завершение строительной эпопеи состоялось уже в стилевых реалиях середины 1900-х годов – времени, когда апогей увлечения модерном остался позади, все наиболее значительные произведения в этом стиле были отстроены, а некоторые из них успели стать объектами для яростной критики[v].
Говоря о «Метрополе», невозможно разделить собственно архитектуру и фасадный декор, представляющий собой эффектный синтез различных техник и материалов искусства. Вместе с тем, отдавая дань восхищения декоративной фантазии создателей памятника, исследователи, как правило, избегали рассматривать элементы убранства его фасадов как связный текст и анализировать их содержательную сторону, ссылаясь на то, что «в структуре целого ‹…› их сюжетика не так уж и важна»[vi] или находя в них лишь «веселый коллективный экспромт мамонтовских друзей, плод совместного сочинительства за чайным столом в особняке на Садово-Спасской»[vii].
Действительно, первоначальные проекты «Метрополя» - и предложенный Л.Н. Кекушевым, и разработанный позднее В.Ф. Валькоттом - не предполагали столь насыщенной декорации, которую мы видим на фасадах существующего здания[viii]. Идея заполнения архитектурной поверхности монументальной живописью, пластикой и майоликой, по-видимому, родилась уже на стадии строительства. Её автором, как на то указывает в своей публикации А.В. Ерофеев, стал С.И. Мамонтов. Однако, с нашей точки зрения, изначальной особенностью декоративного ансамбля «Метрополя» было наличие внятной идейно-художественной программы, причём программы, символистской по своей сути.
Уместно напомнить, что «Метрополь» задумывался и строился не только как фешенебельный отель. Здание, заменившее собой целый квартал московской застройки, включило в себя, наряду с гостиничными номерами, ресторан, зимний сад, банкетные и выставочный залы, но главное – театральный зал, на сцену которого планировалось перенести постановки знаменитой Частной оперы Мамонтова. Замысел театра так и не был реализован. Однако, благодаря этой идее, «Метрополь» наделялся не только качествами функционального, современного, вместительного гостиничного здания, но и обретал иной, более высокий статус. «Всем, что делал Савва Иванович, тайно руководило искусство»[ix], – так отзывался об известном меценате К.С. Станиславский, и, несмотря на возвышенно-категоричный тон этих слов, нет оснований сомневаться в их принципиальной верности. В случае с «Метрополем» это означало, что, выступив идейным вдохновителем всего художественного процесса, Мамонтов стремился выразить на фасадах здания именно его художественно-театральную ипостась, репрезентовать публике не гостиницу с роскошным рестораном, но – обитель искусства.
Этой «функции» здания отвечает сюжет знаменитого панно М.А. Врубеля, венчающее фасад по Театральному проезду. Как известно, «Принцесса Грёза» создавалась для Нижегородской выставки 1896 года, но была отвергнута академическим жюри. Таким образом, акция С.И. Мамонтова по размещению майоликового воспроизведения опального панно на главном фасаде крупнейшего здания Москвы представляла собой вызов консервативной общественности. Но едва ли Мамонтова заботила только демонстрация собственного эстетического вольнодумства, подкреплённого финансовым могуществом. Очевидно, важность представлял и сюжет врубелевского произведения.
«Принцесса Грёза» создавалась Врубелем под впечатлением одноименной пьесы Эдмона Ростана (La Princesse Lointaine ), написанной на основе популярной в средние века на Западе легенды о любви трубадура Жофруа Рюделя к триполийской принцессе Мелисинде. Напечатанная в русском переводе Т.Л. Щепкиной-Куперник и поставленная в 1896 году на сцене театра «Литературно-художественного кружка», пьеса Э. Ростана вызвала горячие отклики у отечественной публики, вне зависимости от эстетических и политических пристрастий[x]. Для Врубеля же, по-видимому, был важен центральный мотив «любви издалека»: Жофруа влюбился в Мелисинду, никогда не видя её, и умер в миг долгожданной встречи с возлюбленной. Не удивительно, что для своей композиции Врубель избирает именно момент явления Мелисинды на корабль Жофруа и представляет его как эстетическое событие, способное воплотить «общую всем художникам мечту о прекрасном»[xi]:
Ж о ф р у а:
Смотрю… смотрю… не оторваться взглядом.
Она, она, она! С её нарядом,
Вся в блеске перлов, золота, камней,
С тяжёлою волной её кудрей!
‹...›
А милый голос утоляет жажду,
Как в летний зной студёная струя.
Смотрю в глаза и больше уж не стражду,
Смотрю в глаза ей и тону в них я.[xii]
Торжество Красоты в мире, триумф прекрасной грёзы над суетой человеческого бытия – вот идея, которую несёт центральное панно «Метрополя». Эта идея имеет очевидные символистские корни, как и само понятие грёзы – обязательного для символистов условия совершения творческого акта.
«Принцесса Грёза» Врубеля является композиционным и смысловым центром декоративного ансамбля «Метрополя». Ей «аккомпанируют» панно меньшего размера, исполненные по эскизам А.Я. Головина. Взглянув на них, мы не усомнимся в том, что одной из наиболее запоминающихся черт этого изобразительного ряда является «музыкальность» – хотя бы в силу обилия музицирующих персонажей. В замысле Головина присутствовал сюжет «Орфей играет», который выступал своего рода кульминацией «музыкальной» темы, но не был осуществлён – впрочем, как и сам проект размещения мамонтовской оперы в здании «Метрополя». Эскиз композиции представляет собой триптих, в котором, помимо фигуры мифологического барда, присутствуют изображения хищных зверей и птиц, внимающих чудесным звукам его лиры. Согласно Горацию (Hor. Carm. I 12, 7 - 12), Орфей имел дар при помощи своей игры останавливать реки и ветра, гармония его музыки очаровывала богов и смертных. Это очень близко взлелеянной модерном мечте об искусстве, способном преображать мир.
Образ Орфея – один из центральных в искусстве символизма. Достаточно вспомнить одноимённую картину Г. Моро (1865), «Плач Орфея» А. Сеона (1883) или алтарь «Орфей» в интерьере мюнхенской виллы Ф. фон Штука (1898). Орфей становится одним из символов нового искусства рубежа веков, возможно, наиболее полно выражающим его жизнестроительные амбиции. Образ Орфея-демиурга, «заставляющего ритмически двигаться неодушевлённую природу, ‹...› вызывающего в мир действительности призрак, т.е. новый образ, не данный в природе»[xiii] мы встречаем у Андрея Белого. Рассматривая два пути художественного созидания, крупнейший теоретик русского символизма связывает их с мифологическими образами Гелиоса и Орфея. Причём последний олицетворяет романтический путь, по которому шествовал сам Белый и большинство художников его века: «Из глубины бессознательного закрывается он от природы завесой фантазии ‹...› Туман его грёз (курсив – И. П.) осаждается на действительность, омывает её росой творчества»[xiv]. Таким образом, понятие творческой грёзы, вошедшей в название панно Врубеля, не оставляет нас и при рассмотрении работ Головина.
Обратившись к фасаду по Театральному проезду, мы находим здесь, помимо центральной врубелевской композиции, сюжеты «Поклонение божеству», «Поклонение природе», «Жизнь», «Купание наяд». На фасаде по Третьяковскому проезду – «Жажда»; на фасаде, обращённом к Театральной площади – «Поклонение старине» и «Полдень».
Сцены «поклонения», объединённые названием, несомненно, выражают такие существенные для художественного творчества аспекты, как стремление к духовному идеалу («Поклонение божеству»), восхищение совершенством мироздания («Поклонение природе») и почитание традиций прошлого («Поклонение старине»). Таким образом, перед нами возникает художественная проекция некой системы ценностей, в которой без труда распознаются ценности символистской культуры. Композиция «Жажда» также может быть истолкована как иносказательный образ искусства – источника самовозрождающейся жизни. Иными словами, здесь мы становимся свидетелями того, как смысловые рамки декорации «Метрополя» раздвигаются, вмещая в себя не только тему апологии искусства, но и тему самой жизни в трактовке, характерной для западной иррационалистической философии второй половины XIX века.
Жизнь и искусство тесно переплетаются в культурном пространстве Серебряного века, но ещё раньше – у Ф. Ницше («Необходимы образы, по которым можно будет жить!»[xv]). О колоссальном значении, которое имели идеи Ницше (в частности, его философия Жизни) для русской интеллигенции рубежа столетий, написано и сказано немало. Объявленная Ницше война с позитивизмом, выдвинутый им культ гениального героя - «аристократа духа» – всё это было близко и понятно многим представителям художественной России тех лет. Идейно-духовная связь М. Врубеля с философией Ницше стала едва ли не одним из общих мест в историографии творчества русского мастера[xvi]. На актуальность ницшеанских представлений для авторов «Метрополя» - и, в первую очередь, для Мамонтова – недвусмысленно указывает включение в опоясывающий здание майоликовый фриз лаконичной цитаты из афоризмов философа: «Опять старая истина, когда выстроишь себе дом, то замечаешь, что научился кое-чему»[xvii].
Для нас знаменателен сам факт цитирования Ницше на фасаде «Метрополя», поскольку он позволяет понять идейно-философскую основу программы убранства здания. Здесь будет кстати обратиться к барельефному фризу Н.А. Андреева, который образует своего рода основание аттика, несущего майоликовые панно. Как представляется, название фриза - «Времена года» - не исчерпывает заложенного в нем смысла. Символистскому искусству это свойственно, поскольку «символ ‹…› многолик, многосмыслен и всегда тёмен в последней глубине»[xviii], а имя произведения никогда не объясняет его сути. В барельефе «Метрополя» не акцентирована сезонная атрибутика, не проведено членение фриза на фрагменты, которые бы соответствовали временам года. Развёрнутое Андреевым беспрерывное «шествие» родов и поколений, бессильных вырваться из плена, которым навеки стала для них толща стены, смотрится метафорой жизни. Жизни, разумеется, не в смысле скоротечного земного существования индивидуума, но – Жизни, «открытой» самим Ницше и его последователями. «Только в творчестве живая жизнь, а не в размышлении над ней»[xix], – подчёркивал тот же А. Белый, являвшийся поклонником Ницше и его философии. Приоритет искусства над научным познанием, предпочтение деятельного вмешательства в ход событий отвлечённому созерцанию – это были важнейшие этические императивы интересующей нас эпохи, разделявшиеся в равной степени представителями деловых кругов, деятелями искусства и политическими авантюристами.
Итак, программа фасадов «Метрополя» может быть интерпретирована в русле ницшеанских симпатий лично С.И. Мамонтова и его творческого окружения. Решённая средствами фигуративной пластики стихия человеческой жизни, а над нею – майоликовые картины, выступающие символами различных аспектов искусства, эту жизнь венчающего, служащего ей целью и оправданием.
Век модерна в Москве был краток, и гостиница «Метрополь» оказалась самым крупным общественным зданием, созданным в «новом стиле». Основной сферой бытования модерна стало частное домостроение, состоятельная московская буржуазия и некоторые представители интеллигенции стремились обзавестись особняком, выстроенным в модном европейском вкусе. Уже к середине 1900-х годов, в результате поражения в Русско-японской войне и начавшихся революционных волнений, оказались исчерпанными как экономическая база, так и тот социальный оптимизм, который служил для многих стимулом к созиданию «родового гнезда». Однако в самые первые годы ХХ столетия в Москве появились частные дома, очень близкие по своей декорационной концепции рассмотренному нами «Метрополю». Мы остановим своё внимание на расположенном на углу Малого Ржевского и Хлебного переулков собственном доме С.У. Соловьёва – одного из ведущих московских архитекторов рубежа столетий.
Композиция и планировка этой постройки, осуществлённой в 1901 – 1902 годах, в целом не отличается новизной на фоне даже более ранних особняков Ф.О. Шехтеля или Л.Н. Кекушева. Дом Соловьева представляет собой своеобразный пример прочтения стилистики модерна: архитектурный облик его насыщен художественными «воспоминаниями»; профессионально сформировавшийся в русле академической школы, Соловьёв понимает программную для «нового стиля» антинормативность, в первую очередь, как повод проявить бóльшую, нежели позволялось в эклектике, свободу в обращении к наследию прошлого.
Художественная выразительность западного фасада особняка Соловьёва строится на эффектном декоративном решении стены, сочетающем оштукатуренную плоскость с накладным рустом и деталями, имитирующими пластическое каменное убранство. Большой вынос карниза, с размещённым под ним аркатурным фризом, в люнетах которого размещаются майоликовые тондо с датой строительства особняка[xx] (по образцу гербов в итальянских палаццо) – приёмы, характерные для позднесредневековой архитектуры Италии и особенно распространённые во Флоренции, Сиене, Лукке и других городах Тосканы. Наше предположение подтверждает и первоначальный проект фасадов особняка, на котором упомянутые тондо вместо римских и арабских цифр содержат стилизованные изображения лилии – герба Флоренции. Итальянские реминисценции в доме архитектора, очевидно, были обязаны своим появлением тому глубокому эстетическому впечатлению, которое владелец особняка вынес из пенсионерской поездки, предпринятой им по окончании Академии художеств в 1884 – 1887 годах (к слову, именно за многочисленные зарисовки исторических памятников, выполненные за рубежом и в России, Соловьёв был удостоен звания Академика архитектуры).
На южном фасаде дома Соловьёва размещается декоративная композиция, в которой наглядно раскрывается главное содержание его монументально-декоративной программы. В жёсткую тектоническую структуру вписаны крупное окно первого этажа, увенчанное аркатурным фризом с полукруглыми майоликовыми вставками в люнетах, скульптурный рельеф, а также два окна второго этажа и майоликовое панно, изображающее ночной пейзаж с видом античных руин. Панно занимает простенок между двумя окнами и, таким образом, воспринимается как третье - метафизическое - окно, благодаря которому зритель может заглянуть в мир ночных видений и творческого вдохновения, царящего в доме художника.
Тема ночных сумерек, звучащая своеобразным лейтмотивом фасадов дома Соловьёва, имеет самое непосредственное отношение к символистскому мироощущению. В представлении символистов ночь – это совершенно особая область бытия, время грёз и отрешённости от земной реальности. Интригующий образ ночи, а также тесно связанная с ним тема сна предстаёт перед нами в произведениях многих символистов как европейского искусства – Э. Бёрн-Джонс, Ф. Ходлер, П. Пюви де Шаванн, так и России – М. Врубель, В. Борисов-Мусатов, А. Головин и художники «Голубой розы».
Расположенная ниже скульптурная голова в зооморфном шлеме, имеющем форму совы, скорее всего, является воплощением образа Афины Паллады, хотя подобных прецедентов в классической иконографии и не встречается[xxi]. Образы античной мифологии, переосмысленные в духе ницшеанского противопоставления аполлонического и дионисийского начал в искусстве, заняли в иконографии символизма конца XIX – начала ХХ века одно из центральных мест, наряду с библейскими персонажами и героями средневекового эпоса. Пластический декор дома Соловьёва был выполнен Н. А. Андреевым – автором барельефного фриза «Метрополя».
Афина предстаёт здесь как покровительница искусств («Ваяние», «Живопись», «Архитектура» и «Музыка»), олицетворения которых изображены на майоликовых пластах в люнетах аркатуры. Среди искусств, покровительствуемых Афиной, так же, как и в иконографии самой богини, присутствует отступление от классической античной традиции: в Греции Афина распространяла своё влияние лишь на пространственные искусства и ремёсла, объединявшиеся термином «τεχνη» (греч. - умение, ремесло); временные искусства, включая музыку, находились «в компетенции» Аполлона. В конце XIX века роль покровителя художественного творчества перешла от Аполлона к Афине Палладе, воинственный образ которой, созданный Г. Климтом, являлся эмблемой Венского Сецессиона, объявившего непримиримую борьбу с устаревшими традициями в искусстве; аналогичная иконография была характерна и для творчества Ф. фон Штука. Рельеф, изображающий Афину в окружении аллегорий четырёх искусств, украсил в 1909 году фасад собственного дома Ф.О. Шехтеля на Большой Садовой, выстроенного в формах неоклассики.
Символистские мотивы мы обнаруживаем в облике многих произведений московской архитектуры конца XIX – начала XX века. Как уже отмечалось, символизм, оформившийся в первую очередь как литературное, поэтическое направление, проникал в архитектуру, главным образом, через сюжетику изобразительного фасадного декора. Проанализированные нами памятники - «Метрополь» и дом Соловьёва - демонстрируют замечательные примеры целостности идейно-художественного замысла. В ряде других случаев программа прочитывается не столь последовательно, притом, что символистические образы играют заметную роль в облике здания. Это, в частности, можно сказать о знаменитых произведениях Ф.О. Шехтеля – особняках С.П. Рябушинского и А.И. Дерожинской или о фасадах Доходного дома Строгановского училища на Мясницкой, украшенных изысканными керамическими панно, стилистически близкими графике «мирискусников»[xxii]. Ряд примеров можно легко продолжить.
Расчленение прежде целостного понятия «архитектуры модерна», акцентирование стилевого плюрализма в зодчестве этого времени, имеющее место в среде современных исследователей (см. примечание 3), позволяет включить архитектуру в общий контекст развития художественной культуры второй половины XIX – начала XX столетия, ведущим направлением для которой признаётся символизм. Сегодня, в условиях преодоления однозначно формалистического подхода к изучению искусства Нового времени, тема идейно-философских истоков формировании облика архитектуры 1890 – 1910-х годов представляется одной из наиболее перспективных и заслуживающих серьёзного исследования. Романтический модерн, национальный стиль и неоклассика – все они обнаруживают генетическую связь с различными аспектами символистского мировоззрения, которое, очевидно, и являлось действительным источником для многообразных творческих исканий того времени.
[i] Пайман А. История русского символизма. М., 2000. С. 56–88.
[ii] Нащокина М. Иконография архитектуры европейского модерна // Европейский символизм / Отв. ред. И.Е. Светлов. СПб., 2006. С. 151.
[iii] Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830 – 1910-х годов. М., 1978. С. 318.
[iv] Щусев А.В. Мысли о свободе творчества в религиозной архитектуре // Зодчий. 1905, № 11. С. 132.
[v] Как известно, замысел строительства «Метрополя» родился в контексте большого коммерческого предприятия, осуществлявшегося по инициативе «Северного домостроительного общества». Основная идея коммерсантов заключалась в постройке на арендованных у города участках фешенебельных особняков с целью последующей выгодной продажи. В случае с «Метрополем» окупить затраты на аренду и строительство, а также получить прибыль предполагалось не за счёт продажи сооружения, а посредством доходов от его эксплуатации.
[vi] Чекмарёв В.М. Мир художественных образов гостиницы «Метрополь» // Музей 10. Художественные собрания СССР. М., 1989. С. 36.
[vii] Ерофеев А.В. Становление модерна в архитектуре Москвы // Архитектурное наследство. 1995, № 38. С. 135.
[viii] Конкурс на фасад гостиницы «Метрополь». Премированные проекты. 1899. М ., 1899; Нащокина М.В. Московский модерн. М., 2003. С. 239-240.
[ix] Станиславский К.С. Собрание сочинений. М., 1959. Т. 6. С. 102.
[x] В частности, пьеса была восторженно встречена М. Горьким.
[xi] Врубель М.А. Переписка, воспоминания о художнике. Л., 1976. С. 209.
[xii] Ростан Э. Принцесса Грёза // Ростан Э. Сирано де Бержерак: Пьесы / Пер. Т. Щепкиной-Куперник. М., 2007. С. 143.
[xiii] Белый А.. Символизм и творчество // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 336.
[xiv] Там же. С. 337.
[xv] Ницше Ф. Злая мудрость. М., 2007. С. 449.
[xvi] Суздалев П.К. Врубель. Личность. Мировоззрение. Метод. М., 1984. С. 132–134.
[xvii] Текст надписи сохранился лишь частично – со стороны Третьяковского и Театрального проездов.
[xviii] Иванов В. По звёздам. СПб., 1909. С. 39.
[xix] Белый А. Символизм и философия культуры // Белый А. Указ. соч. С. 187.
[xx]Дата строительства особняка дана частично арабскими, а частично римскими цифрами: на северном фасаде – «1-9-0-1», на западном – «MD-CC-CC-II» («1902»).
[xxi] См.: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC). Zürich; München, 1984. V. 2. Р. 1, P. 955–1110; V. 2. Р. 2, P. 702–815.
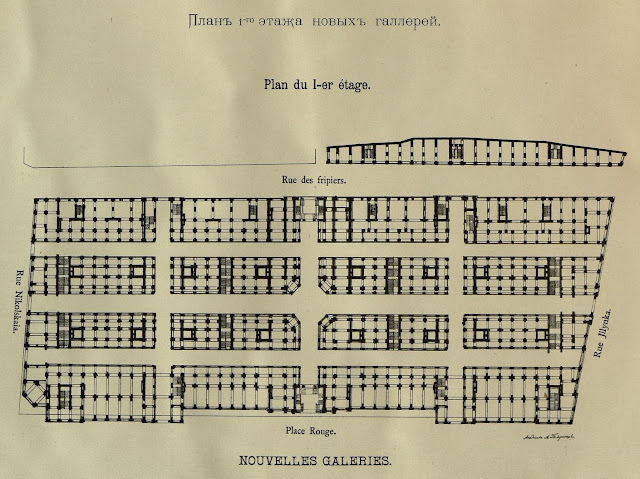

Комментарии
Отправить комментарий